Александр Лапин «Встречай Кавказ гостеприимный!»
Быль
Как я на чеченскую войну попал? Поездом! Но, скажу тебе приятель, это была история, полная неожиданностей. Служил я когда-то в дивизии на юге России. Между Воронежем и Ростовом. В полях лагерем стояли. Нас из Германии туда вывели. По ближайшим хуторам, да деревушкам офицерские семьи разместились. Хорошие места. Природа чудесная. Дон совсем недалеко. Речка Богучарка через городок протекает. Пескари клюют на голый крючок. Зимы не долгие и тёплые. Рядом Украина. Тут же Кавказ. А на Кавказе в Чечне война. Наша дивизия периодически откомандировывала свои офицерские кадры на эту войну. Я, как «афганец», имел законное право не ехать в эту командировку, но увильнуть не получилось. Суть в том, что туда должен был отправиться мой подчинённый. А у него вот-вот на подходе рождение второго ребёнка. Значит, офицеру возникало право на войну не ехать. Он, на полном основании, естественно, пишет рапорт. Ему в его праве отказывают, обосновывая тем, что ребёнок ещё не родился – это раз. Срок командировки меньше оставшегося срока беременности, следовательно, он успеет к родам приехать – это два. А то, что он может с войны и не вернуться вовсе, в учёт не бралось. Логика тамошних армейских кадровиков железная. Сразу так и не придумаешь. А в то время, дружище, если офицер или прапорщик писал отказ от командировки в Чечню, его в три дня увольняли без выходного пособия и без пенсии. Правда, тут есть маленькая оговорочка. Это почти не касалось тех, кто служил по блату, и уж точно тех, кто имел возможность и ловко умел давать взятки, да разного рода подношения. Ты не подумай, чего-либо плохого обо всех подряд. Много и генеральских сыновей на этой войне побывало. Погибшие есть. Притом геройски. Зло берёт только то, что вот из всякого рода ушлых отказников встречаются порой мерзавцы, которые рассказывают с болью в душе и слезами на глазах, что они просили, руки заламывали в отчаянии, умоляя отправить их на войну. А им, вишь-ли, не позволили туда съездить и там подвиг совершить. Всё это враньё. Кто хотел, тот поехал. Когда я написал рапорт взамен своего подчинённого, никто меня даже и не думал отговаривать. И не смотря на то, что я и «афганец», и ранение имел, кадровики с радостью и большой охотой заменили фамилию моего офицера моей. Им-то какая разница кто поедет. Да и конфликтных ситуаций тоже не хочется. Главное чтобы поехала штатная единичка в клеточке разнарядки из одной и той же части. А кто ты и с чем тебя едят – это потом чеченцы тебе всё расскажут. Они, черти, имели всю информацию про нас, особенно о командирах и узких спецах. И уж поверь, дружище, эту информацию им не имамы в мечетях на молитвах рассказывали. Ну, а мне по-другому и смысла то не было сделать. Я не был связан крепкими семейными узами, скитался по деревенским квартирам (летним кухням или сараюшкам), был до абсолютного идиотизма романтиком и ни разу не был на Северном Кавказе. Ни на курорте, ни на войне. Рапорт был написан, подчиненный остался радостно готовиться к продолжению своего отцовства, а я, собрав свой скудный скарб в виде «тревожного чемодана» и небольшого кулька с суточным пайком, сел на предрассветный междугородний автобус и отправился в отдел кадров корпуса, в Воронеж. В дивизии мне выдали предписание в командировку на один месяц, в Моздок, в госпиталь, терапевтом. Проинструктировали, что на войну мы едем группой, все собираемся в корпусном отделе кадров, а там уже нас отвезут на вокзал к поезду. Билеты на поезд в спец вагон готовы, сухпайком на двое суток обеспечат, и в Грозном нашу группу будет встречать на жд.вокзале специальная команда. Я сразу и не смекнул, почему, отправляясь в Моздок, нас будут встречать в Грозном. Сообразил уже позже. У меня с оперативным мышлением вообще трудно, потому-то, наверное, я и не стал генералом. Но инструктировали меня в дивизии тщательно. Объясняли, что в процессе движения к пункту назначения категорически запрещено куда-либо отлучаться, особенно выходить на станциях из вагона, заводить в пути знакомства, рассказывать о цели своей поездки и прочее, прочее, прочее. Инструктаж, конечно, был очень серьёзный. Дали даже в нескольких графах расписаться. И вот, наконец, к началу рабочего дня я в полной походной выкладке появился в штабе корпуса. В отделе кадров уже было открыто. Вскоре появился подполковник кадровик. Сияющий, ладненький и свежий, он всем своим упругим телом показывал, что крепко, сладко и вдоволь выспался, затем в полной мере был обласкан любимой женой, после чего плотно позавтракал ароматной яичницей с солнечным слезливым желтком, зажаренной на тоненьких, янтарных и нежнохрустящих кусочках россошанского сала. И запил всё душистым цейлонским чаем с нежной, тающей уже от дыхания ванильной булочкой. В полусумраке штабного коридора он не сразу заметил мою ссутуленною после четырёх часовой тряски в старом и рычащем автобусе львовского производства фигуру. И только входя в дверь своего кабинета, безлико обратился ко мне с вопросом кто я и что здесь делаю? Я встал и представился. И тут лицо подполковника стало приветливым и радушным. Он радостно объявил:«Молодец, майор! Прибыл самый первый! И поэтому мы назначаем тебя старшим команды.» Я знал, что старшим команды был назначен какой-то майор продовольственник (группа планировалась из тыловиков). И поэтому бодро спросил, почему эту обязанность передоверили мне? Неужто только лишь за то, что я раньше всех приехал? Оказалось, что тыловик вдруг неожиданно и тяжело заболел. «Ты давай, посиди в коридорчике, никуда не уходи — наставнически сказал свеженький подполковник. Скоро должны ещё трое подъехать». Ждал я всё утро, сидя в коридоре отдела кадров на неудобных фанерных стульях, которые, похоже заимствовали из какого-то заброшенного в годы перестройки старенького кинотеатра. Весь сухпай всухомятку сгрыз. И сидел бы ещё, пока меня не осенила догадка, что остальные отличники военного тыла тоже срочно и тяжело заболели. Ошибся я только в одном офицере. Это был ВОСОвец*, который поехал каким-то ему одному известным спец.поездом, куда других брать не положено. «Так что ты, доктор, на нас не обижайся – сказал, удручённо кивая головой, кадровик. Жди когда найдут всем заболевшим замену.»И, поставив в командировочном предписании штамп о моём сегодняшнем прибытии, убрал его в бумажную тьму окрашенного в мышиный цвет сейфа. Это было грустно, так как означало, что я обязан торчать в штабе неизвестно сколько и неизвестно как. Кадровик был тёртый служака. Он понял, что мне это совершенно не по душе и многозначительным взглядом ясно предложил право выбора. «А может, быть, я один поеду? — выдал я то, что он явно хотел услышать. Подполковник тут же театрально удивился и взялся объяснять мне, что этого делать ни в коем случае нельзя, что это категорически запрещено инструкцией. Дипломат хренов. Притом, в это же время, красивым и убористым подчерком, даже не таясь, стал выписывать мне новое командировочное удостоверение. Закончив его оформлять, он поставил печать «Убыл» сегодняшней датой и многозначительно взглянув на меня, предложил написать рапорт, что, мол, я сам высказал предложение убыть в командировку самостоятельно и всю ответственность за это беру на себя лично. Я, естественно, этот рапорт написал, так как по сути это было правдой и, конечно же, без всяких заботливо заранее купленных билетов на поезд, поехал трамваем на жд.вокзал решать свою командировочную судьбу в гордом одиночестве. В очереди билетной кассы у меня-то и возникли сомнения о пункте назначения, указанного в командировке. Достав документ, глянул в него и негромко, что бы не вызвать смятение очереди, матюгнулся. Вместо Моздока, действительно был город Грозный, вместо госпиталя какая-то войсковая часть в Ханкале. Где эта Ханкала и что это такое, я, естественно, не знал. Но вот вместо «терапевта» фраза «..в распоряжение командира….» и срок командировки на полгода, меня действительно огорчило. Это означало, что мне предназначена «некраткосрочная» судьба войскового, а не госпитального врача, то есть тяжёлая, беспросветная рутина обычного пехотного офицера. Но переживал я не долго. Ладно, Грозный значит Грозный! Где наша не пропадала! Но надежда на благополучный поворот судьбы оставалась. Авось ближайших поездов, или билетов на имеющиеся составы нет — зашевелилась остренькой язвочкой спасительная мыслишка. Вот тогда и совесть у меня была бы чиста. Но это кому-кому, но только не для меня Мне, как обычно, «крупно повезло». Был и поезд на Грозный, и были на него билеты. Последние. И, уверен, именно для меня. Приобрёл я плацкарту на грозненский поезд и только-то успел пирожок в буфете запихнуть в пустующий желудок, как объявили посадку. Когда я, в полевой форме российского офицера, вышел на перрон, то сразу же понял сложность своего положения и глупость своей бравады. Всё вокруг было заполнено отъезжающими кавказцами! Бородатые и гладковыбритые крепкие мужчины. Женщины в однотонных платках и дети с игрушечными кинжалами и автоматами. Старики в каракулевых шапках и тюбетейках. С клюками и без. Молчаливые и неугомонно говорящие на непонятном мне наречии. Все они ехали в моём поезде, со мной, туда, куда и я! И все, без исключения, исподволь, озирались на меня неприветливыми, чуждыми для русского глаза взглядами. Мне стало, мягко сказать, не комфортно, проще выразится — жутко! И я кисло пожалел, что написал рапорт. Ведь случись со мной что-то такое, трагическое, все скажут, что сам себе нашёл приключений на свою голову этим рапортом. И подвиг мне не засчитают и героем я уже точно не смогу стать! Но делать нечего. Такая у меня вот дурацкая натура. Там, где другой отступит без оглядки, я обязательно туда попрусь. Хоть убей, но только так! Не глядя по сторонам, больше себе под ноги, искоса озираясь, я высмотрел цифру своего вагона и осторожно, не толкаясь, стал к нему пробираться. Честно скажу – приятного мало. Окружающие меня люди смотрели явно недружелюбно, и моя разыгравшаяся неуёмная и бурная фантазия рисовала мне трагическую картину, в которой казалось, что вот-вот мне всадят в бок кинжал из безжалостной дамасской стали или ещё что-нибудь в этом роде. Я даже чувствовал холодный металл в боку, моментально теплеющий от моей крови. Будучи в своём, древнем русском городе, на русском вокзале, ещё даже не доехав до Чечни, я был явно беззащитен и, возможно, заранее жестоко убит! И это уже не игра фантазии. Опасность была реальная. Ею был пропитан воздух, которым я учащенно дышал. Как забрался в вагон, как отыскал своё место, как забросил чемодан наверх и как завалился на свою полку, я чётко даже и не помню. Всё было как то нереально. Как в старом кино. Хорошо, что моё место было на верхней полке последнего отсека плацкартного вагона, рядом с туалетом. В первую очередь, я определил пути бегства в критической ситуации. Если что, то можно, на крайний случай, соскочить и запереться в туалете, наивно рассуждал я, вжавшись в полку и стенку вагона так, чтобы меня поменьше было видно, особенно снизу. Матрас и подушка имелись, а бельё мне даже и не предложили. Да я сильно и не настаивал. Седой проводник-кавказец, разглядывая мой билет, с какой-то обречённостью взглянул на меня и больше ко мне не подходил. Мне, скорее всего, крупно повезло, так как своим отчаянным поступком я видимо шокировал кавказцев. Да так, что они и не поняли дурак ли я, или же это какая-нибудь хитрость со стороны русских. В полевой форме, со звёздами и эмблемами. К тому же, я прицепил орденские колодки, которые явно свидетельствовали о том, что мне уже приходилось вступать в боевой конфликт с исламским миром. Но когда я увидел своих соседей по купе, настроение моё испортилось напрочь. Напротив меня на нижней полке разместился высохший, но крепкий, как старый карагач, старик-чеченец, с седой, коротко остриженной головой и гладким, тщательно выбритым вытянутым лицом. Узкие губы были сжаты в одну строгую полоску. Из под овальных, густых, цвета свежего снега бровей, пронзительный взгляд колючками царапал окружающий мир. На суховатых щеках, чётко обрамляя овалом кожных складок жёсткий рот, выделялись мускульные желваки, каждый из которых казался каменным и не подвижным. Типичный кавказский нос, с тонкой и чуть белесоватой горбинкой заканчивался подвижными ноздрями, которые, казалось, принюхивались, выискивая, как у старого и матёрого волка запах свежей, горячей дымящейся крови. Морщинистый и широкий лоб, обрамленный седым овалом короткой стрижки, наводил на меня ужас. Казалось, что в глубинах этого лба кроются свирепые и коварные мысли. Большие, довольно значительно оттопыренные уши, упирались мочками в жилистую и морщинистую шею. Старческий кадык наполовину утопал в застёгнутом воротнике белой рубашки российского производства. Сразу же, подо мной, расположился его, видимо, старший сын. Верзила с небольшой, но густой, круглой бородой, обрамляющей плотное, овальное лицо. Возрастом он был где-то равным моему. Напротив меня наверху разместился парень помладше, но тоже крепко сложенный и бородатый. На боковой полке, наверху, ещё один. Круглолицый, видно самый молодой, так как борода и усы у него ещё были только в стадии формирования. Все они были одеты по-европейски и негромко разговаривали, обращаясь к старику с большим почтением. Старик сидел в рубашке, повесив пиджак на крючок у своего изголовья. За окнами вагона плавился очередной июльский день, и жара быстро заполнила весь вагон. Я по немного стал адаптироваться к окружающей обстановке. Однако тревога не давая мне полностью расслабиться. И так было до самого конца пути. Чеченцы-соседи как бы совсем не замечали меня. Но это только так казалось. Я был уже опытный солдат и потому явно ловил на себе их молниеносные и не добрые взгляды. Когда, дёрнув вагоны, состав тронулся, соседи дружно уселись за столик подо мной внизу и развернули свои дорожные припасы. Это был для меня очередное истязание. Ты же, приятель наверно знаешь вкусы горцев. О! Что это был за стол!! Я лучше промолчу. В свою очередь, удивило беспрекословное и почтительное отношение сыновей к отцу. Потом они взялись пить чай! Аромат сказочный! Наконец наступил вечер и в вагонах включили чахлый свет. Я облегчённо вздохнул. К тому же, сквозь оконные щели повеяло вечерней прохладой, и я впал в зыбкую дрёму. Но даже в вагонном полумраке я чувствовал, скорее, осязал всей кожей, сквозь ткань формы подозрительные и злые взгляды чеченцев. Вскоре я, неожиданно для себя, крепко заснул. Разбудил меня какой-то шум, идущий с другого конца вагона. Прислушавшись, я разобрал русскую речь. Это был омоновский патруль, который на границе с Чечнёй проверял документы у пассажиров. Вскоре вооружённые люди в чёрных масках и комбинезонах с крупными буквами ОМОН приблизились к нам. Четверо здоровяков, под командой совсем не атлетического вида, но живчика старшего лейтенанта, загородили купе. Командир довольно властно, несколько, даже грубо, почему-то меня первого, дёрнул за ногу и велел спуститься. Я, приподняв голову, немного и скромно возмутившись, остался лежать на своём месте. Нет, мне не было досадно. Скорее всего, меня обеспокоила необходимость, выбравшись из своего укрытия, встать в полный рост на виду у всего вагона. Двое омоновцев, по его команде, решительно настроились стащить меня за ноги, но я успел вынуть своё удостоверение с вложенным в него командировочным предписанием и сунул его старлею. Он, изучив мои документы, почтительно извинился и не громко спросил, почему я, целый майор, еду в этом гражданском вагоне один. Я не стал рассказывать ему про свою глупость и коварство кадровиков, а громко сказал, что меня встретят в Грозном и тихо попросил их побыть пока здесь, а то у меня скоро лопнет мочевой пузырь. Забравшись, после облегчения, на своё насиженное место, я от всего сердца поблагодарил омоновцев. Старлей, возвращая удостоверение, уважительно и крепко пожал мне руку, пожелав благополучно добраться до места. Когда омоновцы взялись проверять документы моих соседей, мне почему-то захотелось, чтобы они обнаружили в них какой-нибудь недочёт и высадили старика и сыновей с поезда. А взамен их сели бы какие-нибудь женщины с детьми, а лучше всего старушки или что-то в этом роде. Но этого, естественно, не произошло. Проверив документы моих попутчиков офицер, вышел с бойцами в тамбур и исчез в следующем вагоне. Мне опять стало тоскливо и одиноко. А поезд летел в южную ночь, выстукивая вагонными колёсами назойливую мелодию известной в узких солдатских кругах песни: «Тебя убьют, тебя убьют!». Усталость и напряжение прожитого дня сделали своё дело. Уснул я опять незаметно для себя и, наверное, для моих попутчиков. Разбудил меня аромат копчёного мяса и душистого чая. Я сильно загрустил. Как прошли остатки дня рассказывать не буду. И вот поезд в очередной раз стал замедлять бег, а весь вагон засуетился, собирая свой скарб и свёртывая оставшуюся снедь со столов в бумагу и целлофановые пакеты. Было ясно, что это конец путешествию – город Грозный. И действительно, вскоре стали появляться разрушенные войной кварталы большого города. Всё, что проплывало за вагонным окном, очень напоминало кинохронику военных лет, которую часто показывают по телевизору. Полуразрушенные многоэтажки демонстрировали пустоты жилых помещений, с завалившимися лестничными пролётами и обугленными внутренностями развороченных квартир. Выбитые стёкла, заколоченные досками или фанерой окна магазинов и обгорелых киосков, оборванные провода линий передачи, свисающие со скрюченных столбов, развороченные рельсы трамвайного пути, расщепленные и сожжённые огнём и солнцем деревья. Всюду вывороченные куски асфальта дорог и тротуаров. Скелеты железобетонных покрытий хранилищ и технических построек. И полное безлюдье. Но внутренним ухом, сквозь замедляющийся стук вагонных колёс, я слышал глубокий стон, плывущий отовсюду. Это стонал город. Израненный, измученный войной и измотанный болью его жителей. Да! Это был пейзаж реальной войны! Я, действительно, опять приехал на войну. И поэтому был абсолютно уверен, что отправивший меня сюда опытный, хоть и ушлый кадровик сообщил, о моём самостоятельном следовании и заботливые старшие начальники обязательно организуют мне, в целях безопасности, встречу на вокзале фронтового города. Как я глубоко заблуждался! Наивный идиот с большим армейским и боевым опытом! Я, оказывается, совершенно не разбирался в кадровиках, хронически больных тыловиках и заботливых фронтовых начальниках. Поезд проехал весь вокзал, но на перроне, как я не старался увидеть, никого похожего на встречающего не обнаружилось. Тут мне уже по- настоящему пришлось задуматься. Дело принимало совершенно неблагоприятный для меня оборот. Выходить на враждебный перрон, сплошь занятый встречающими кавказцами и ещё не знай кем, где нет ни одного славянского лица, я реально боялся. Оставаться до последнего в вагоне тоже было рискованно! Я совершенно не знал, что мне делать. И тут ещё мои соседи повели себя как-то странно. Сгрудившись возле своего отца, парни, поглядывая на меня, о чём-то громко говорили. Я был абсолютно уверен, что разговор касается конкретно меня. И тут ко мне обратился старик. Говорил он на русском языке почти без акцента. Негромкая речь его была лаконична. Но главное, она меня сразу же сразила неожиданностью слов. «Сынок! Слазь с полки и делай то, что я тебе скажу. Ты зря надеешься на своих. Тебя никто не встретит. Поверь мне. Я вас, русских, хорошо знаю. Ты смел, но опрометчив. Скромен и доверчив. У тебя, майор, на петлицах змея, значит ты военный врач? — скорее утверждая, спросил он. «Да, военный врач» — ответил я ему, как бы даже радуясь тому, что угодил. Он продолжил: «Я воевал с фашистами, освобождал Одессу и был тяжело ранен. И вот такой же, как ты майор – врач меня спас, а затем другие доктора поставили на ноги. И я вернулся домой живым. В глазах старика вдруг появилась какая-то задумчивость и теплота. А на лице неумолимая холодная жёсткость на мгновение смягчилась. «Вот мои сыновья, которых могло не быть, если бы не тот майор в медсанбате — продолжил он. И, к тому же, вижу, у тебя такие же, как и у меня, боевые ордена. Значит, ты добросовестно делаешь своё дело. Значит, ты с достоинством принял эстафету ветеранов Великой Отечественной. А за правительство страны ты не в ответе. Так же как и мы! Иди за мной. И не сомневайся». Сказав, старик надел свой пиджак с наградными колодками, где среди большого количества наград я увидел два таких же ордена, как и у меня. Ватный комок подступил к моему сердцу, и я еле удержался, чтобы из глаз не выступили слёзы. Вокзал встретил нас огромной надписью «Грозный» и уже остывающим предвечерним, но ещё голубым небом и утомительно тёплым дыханием угасающего, летнего, южного дня. На перрон из опустевшего вагона мы выходили особым порядком. Сначала самый младший из сыновей, затем старик, притом абсолютно самостоятельно. Затем я и остальные братья. Моё место в этом эскорте было за спиной старика, в окружении его парней. Мы, таким образом, пересекли перрон, затем, минуя главное здание вокзала справа, вышли на привокзальную площадь. Я же постоянно чувствовал, каким недобрым взглядом провожали меня находящиеся на перроне люди. Тогда ещё я не осознавал суть взглядов этих, обожженных войной людей! При выходе на привокзальную площадь нас остановил местный милицейский наряд. Милиционеры в белых рубашках и парадных погонах, по-чеченски о чём-то быстро переговорили со стариком и отошли в сторону, пропуская нас вперёд. На площади, в отличие от перрона, было не многолюдно, но зато стояло много машин с шашечками такси. Мы прошли мимо всех и оказались на большой улице, похожей на проспект. Старик остановился и, глядя на меня, спросил: «Тебе куда?» «Куда-то в Ханкалу — ответил я. «Тогда всё. Дальше ты сам. И не в коем случае не садись в такси или другую машину кроме ваших. Удачи тебе, сынок!» И второй раз, за всё время нашей встречи, лицо его смягчилось. А мне оно, вдруг, показалось каким-то близким и родным. Видимо, напомнило чем-то моего деда, старого солдата-ветерана, которого уже, из за его боевых ран не было в живых, и которого я до безумства любил. «Спасибо, отец!» Я крепко пожал ладонь деда своими обеими руками. Старик развернулся и, что-то сказав сыновьям, степенно двинулся в сторону вокзала. Они по очереди обменялись со мной крепкими рукопожатиями, при этом неожиданно миролюбиво улыбаясь в свои усы и бороды. «Авось встретимся» сморозил я глупость, на что младший весело ответил: «Конечно, но только не на войне». «Да, да – спохватился я, но они уже догоняли своего отца. Я вновь остался один на искореженным войной проспекте, слегка ошарашенный событиями. Проспект казался безжизненным. А мне, дураку, отчего-то было радостно! Долго стоять не пришлось. И вот показался наш военный КамАЗ с кузовом, наполовину накрытым рваным в клочья тентом и замызганными трафаретами российского флага на дверях. Он нёсся, не выбирая дороги, хлопая тентом и гремя всеми имеющимися в его конструкции железными деталями. Я ещё не успел поднять руку, как автомобиль резко затормозил возле. За какое-то мгновение, выскочивший из кабины здоровенный подполковник, одной рукой швырнул мой чемодан в кузов, а другой запихнул меня в кабину. Рыкнув облаком не сгоревшей до конца солярки, КамАЗ рванул вперёд. Очухавшись, я стал копошиться, пытаясь принять нормальное положение в кабине. Наконец, усевшись, я огляделся. «Кто ты и куда, майор? — резко спросил офицер, дохнув на меня перегаром и солдатскими пайковыми сигаретами. «Майор медицинской службы, полковой врач. Прибыл на войну. Еду в Ханкалу. — чётко доложил я. «А что один и на вокзале!?» — удивился он. «Как меня отправили кадровики, так и приехал». Подполковник звучно матернулся в адрес кадровиков и сказал: «Дурень ты. Тут нельзя стоять! Здесь, на этом проспекте, стервы, «белые колготки», из окон домов уже не одного нашего ухлопали. А ты вон вообще весь холёный да свеженький. Цель лучше некуда! Тебе, доктор крупно повезло!» Затем он открыл «бардачок» кабины, достал початую бутылку водки и гранёный стакан. Налив его на две трети, протянул мне. Сам же, приложившись к горлышку, мужественно отпил изрядную дозу. Потом, громко фыркнув и подождав, пока я доглотаю свою порцию, поднял бутылку, как для тоста, и весело, хоть и не без иронии, произнёс: «Ну что ж, доктор, со встречей на гостеприимном Кавказе!». Хмель через пустой желудок, без задержки, стремительно поступал в мой натруженный колоритными событиями мозг. И мне стало надёжно, уютно и весело! Мы дружно закурили мои, почти целиком сохранившиеся в пути сигареты, утопив кабину в сизом дыму.
А.Лапин 2015г. Июнь
ВОСО — служба военных сообщений. Военные железнодорожные войска.
«белые колготки» — снайпера — женщины из Прибалтики и Украины, служившие по найму в бандформированиях на чеченской войне.
Кино-Театр
Я домик построил из спичек.
Я город построил из спичек.
Дома в нём из спичек, а из пластилина
В них мебель, цветы и картины.
Я срезал кусок мармелада.
Зелёного взял мармелада.
И манит зелёной прохладою пруд,
Который я выкопал тут.
Я сделал лягушек из почек,
Листочек был в каждой из почек.
Весною пробьются из почек ростки
И будут у жаб языки.
Осоку настриг я из кальки.
Камыш тоже сделал из кальки.
Из ниточек тину, а из пластилина
Я берег слепил и плотину.
И склеил деревья из ваты.
Ствол спичечный, крона из ваты.
Я вату смочил ядовитой зелёнкой,
Не сильно, а кисточкой тонкой.
Людей сотворил я из воска.
Но только не многих из воска.
На всех не хватило и из пластилина
Я сделал других и скотину.
И город ожил, город ожил.
С людьми и животными ожил.
В нём люди из воска живут и смеются,
А из пластилина — плюются.
Из воска все — белые люди.
Другие же — чёрные люди.
Все чёрные люди похожи лицом.
Оно из цветных леденцов.
Из воска — достойные люди.
Наверное, важные люди.
И есть ордена у иных молодцов
Из тех же цветных леденцов.
А лица людей мне знакомы.
И чёрных и белых знакомы.
Они, как один все со мной близнецы,
Но всё же они мертвецы!
Есть в городе кинотеатр.
Не строил я кинотеатр.
Там фильмы на плёнке с конфетной обвёртки
И там режиссер очень вёрткий.
Он фильмы показывал людям.
Такое показывал людям!
Что верили люди, и думали люди,
Им счастье доставят на блюде.
И думали это навечно.
И верил это навечно.
Был каждый уверен так чистосердечно,
Что это навечно, конечно!
Но вздрогнули белые люди.
И вздрогнули чёрные люди.
Им вдруг объявили, что фильмов не будет.
И каждый о счастье забудет.
Мол я режиссёру мешаю.
Показывать фильмы мешаю.
И нужно меня облепить пластилином
Соляркой облить и бензином.
Какие-то глупые люди.
Ведь мною же слеплены люди.
Такая вот вышла дурная картина
Из спичек и из пластилина.
Я тут же их всех уничтожил.
Безжалостно их уничтожил.
И вспыхнувши, счастье их сразу сгорело.
Такое вот выдалось дело.
Я долго по ним и не плакал.
Я вовсе по гадким не плакал.
А будет мне скучно, слеплю если надо
Антарктику из рафинада.
И вижу я странную грыжу.
Какую-то странную грыжу.
Но дайте мне скальпель и я эту грыжу
Мгновенно, легко отчекрыжу.
И кто-то мне дал острый скальпель.
Блестящий, отточенный скальпель.
И я благодарен, что скальпель мне дали.
Но это в другом сериале.
Жертвоприношение.
1.Я пушечное мясо.
Я русский имярек.
Под звуки падеграса
Настал 20-тый век.
2.Я пушечное мясо.
Имперские года.
Я кайзерским фугасом
Разорван был тогда.
3.Я пушечное мясо.
Антанте вопреки
Я пролетарской массой
Шёл грудью на штыки.
4.Я пушечное мясо.
Я дот закрыл собой,
Коль призван из запаса
Великою войной.
5.Я пушечное мясо.
В снегах афганских гор
С пустым боезапасом
Свой слушал приговор.
6.Я пушечное мясо.
Под вой чеченских мин
Смертельную гримасу
Скроил адреналин.
- Я пушечное мясо.
Я должен умирать.
Я жду прихода часа,
Когда убьют опять.
- И новый долг солдата!
Удел, видать, таков.
Взорвать себя гранатой,
Отправив в Ад врагов.
- Им Ад был обеспечен.
А мне, возможно, Рай.
Кто больше безупречен
Поди-ка, ты, узнай.
- И так вот раз за разом.
Воскрес и снова в бой!
Какая-то зараза
Зависла надо мной.
- Я жертва всесожженья.
Тук первенца -тельца.
Я вновь без возраженья
Сгораю до конца.
![Александр_Лапин[1]](https://pisatelei.ru/wp-content/uploads/2018/11/Aleksandr_Lapin1-696x424.jpg)





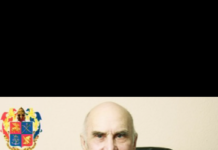

 Создание сайта
Создание сайта