Много раз брался читать мемуары больших военных начальников с описаниями сражений, где правильные номера полков и дивизий, количество минометов-самолетов, и Генеральный штаб, и обязательно Верховный главнокомандующий, который в зависимости от партийных ветров, то гениальный, то как-то не очень, где батальные сцены и всё вроде бы есть, но дочитать до конца не хватает терпения. Мой знакомый фронтовик однажды, полистав подобную книгу, сказал беззастенчиво: «Даже задницу подтирать не пойдет – бумага жесткая».Стилизованная и приукрашенная действительность, с обилием идеологем, лезла раньше и продолжает лезть поныне со страниц мемуаров, как опара из квашни, вместе с неизбывным и , якобы, благородным посылом о патриотическом воспитании молодежи.
Но каждый раз происходит обратное. И каждый раз возникал вопрос: а кто же это писал, выполнял поденщину, чертыхаясь и, может быть, мучаясь от того, что, многие тысячи этих книг-клонов, встанут на полках библиотек, вместо книг Виктора Астафьева, Константина Воробьева, Михаила Шолохова…
Знал ли Анатолий Аграновский, создавая «Малую Землю» для Леонида Ильича Брежнева, как все на самом деле происходило в Керчи, Феодосии, Севастополе период 1941-42 годов? Вряд ли. Ему, как и остальным, поденщикам от литературы, важно было получить квартиру в Москве или орден Октябрьской революции с прилагаемым к нему перечнем небольших привилегий. Да и доступ к архивам имели немногие. Сорок пять тысяч убитых и почти сто тысяч плененных в Крыму. И это только в сорок первом году. Затем еще 330 000 погибших, а количество пленных по немецким данным составило около 170 000 человек. Страшнейшая трагедия, как и большинство подобных под Харьковом, на Волховском фронте из-за неумелого руководства войсками. А в случае с Крымом еще и преступного трусливого бегства генералов во главе с Мехлисом, которые бросили вверенные им армии и дивизии. Редчайший случай, когда армейские политработники написали об этом в письме Сталину.
Виталий Смирнов в книге «На переломе» восполняет пробел, цитирует это письмо и множество других фактов, подтверждающих неумелое, бездарное руководство Крымским фронтом. Он умело вставляет архивные материалы о количестве войск, минометов и танков, о тройном превосходстве в живой силе Советских войск на полуострове по отношению к армии Манштейна, вплетая их в живую ткань повествования. Но самое главное, Виталий Смирнов не сторонний наблюдатель, он не только анализирует события в Крыму на основе различных источников, в том числе и немецких, он сопереживает и пропускает это все через свое благородное сердце. Страницы о Керченско-Феодосийской трагедии пробирают, и невольно снова и снова возникает один и тот же вопрос: почему так безжалостно, так бесчеловечно относились к русскому солдату, который верил Сталину, как отцу родному. Мне это близко, как и тысячам других россиян. Мой колымский отчим — рядовой Красной Армии Николай Маркелов, попал в плен в конце 1941 года в Крыму. Рассказывал, как блукали они по степи без еды и патронов, как сдали их крымские татары фашистам. Почти четыре года немецких лагерей, затем колымских, но выжил бывший солдат и даже вырастил двух дочерей, прежде чем умер от силикоза, заработанного на откатке руды в шахте на руднике имени Матросова. И встает невольно вопрос. А что же стало с теми генералами, которые бросили русских солдат под немецкий каток и сбежали с полуострова, кто на самолете, кто на подводной лодке?
Сибиряк Михаил Борисов, как и многие его восемнадцатилетние сверстники, пошел добровольцем, участвовал в Керченско-Феодосийской операции, был тяжело ранен. Участвовал затем в битве за Сталинград, стал Героем Советского Союза и написал замечательные стихи, которые неоднократно цитирует в своей книге Виталий Смирнов, прослеживая его фронтовую судьбу, искренне восхищаясь им как поэтом, и как умелым храбрым солдатом. Смирнову важно показать, что подобных Борисову талантливых русских людей, ушедших добровольно на войну, многие тысячи. Они воевали храбро, но гибли, порой, нелепо и глупо, как это было под Вязьмой, только лишь потому, что так захотел Верховный главнокомандующий, вопреки здравому смыслу, вопреки неуступчивой позиции Генерального штаба во главе с Жуковым.
В отличие от огульных хулителей Сталина, подобных В. Суворову, А. Минкину, М. Солонину, Смирнов проводит большую исследовательскую работу о роли Сталина в Отечественной войне и подготовке к ней на основе неоспоримых документов, не выгораживая и не поливая его черной краской, и мне, прочитавшего на эту тему немало разных мнений и комментариев, невольно вспоминались слова моей мамы. Она не уставала повторять и в шестидесятых годах на Колыме, и в девяностых здесь, в Волгограде: «А где были люди из ближайшего окружения Сталина?» Подразумевая в первую очередь Никиту Хрущева и иже с ним. А я горячился, спорил с ней, цитируя Солженицына, Зиновьева и еще каких-то громогласных разоблачителей, вплетая сюда свой куцый колымский опыт и подслушанные разговоры старших. За что мне ныне, конечно же стыдно.
Семьдесят лет спорят в России: почему русские оказалась не готовы к войне. Десятки мнений-мифов и самый распространенный, что Сталин не поверил разведданным и в том числе Рихарду Зорге. В книге «На переломе» этому посвящены десятки страниц с неоспоримыми доказательствами, что Сталин знал и готовился целенаправленно к войне с Германией. Виталий Смирнов приводит данные о переброске эшелонов с войсками на Западный фронт, начиная с 13 июня. А так же ссылается на Директиву от 18 июня, разосланную по указанию Сталина по всем военным округам о приведении войск в боевую готовность. Указывается предполагаемая дата 22 июня.
«Трагедия 22 июня 1941 года произошла не потому, что в чем-то ошиблись советские разведслужбы, в частности военная разведка. Трагедия громыхнула потому, что высшее военное руководство СССР, прежде всего нарком обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко и начальник генерального штаба РККА генерал армии Г. К. Жуков, проигнорировали не только донесения разведки, но и, основывавшиеся на донесениях и аналитических выкладках разведки, указания Сталина!»
Кто-то снова вскинется с гневным «не верю!», действительно такое трудно принять и понять, но рассекреченные и уже опубликованные на сегодня документы позволяют с уверенностью сказать, что о «плане Барбаросса», направлении ударов, о планах захвата Минска на пятый день войны, о точной дате начала войны и даже методах обращения с военнопленными, которые станут узниками концлагерей — знали. Знали в Генеральном штабе абсолютно всё. По одной из современных версий А. Мартиросяна, Тимошенко и Жуков «тем не менее устроили грандиозную катастрофу». Он приводит множество совпадений связанных с делом Тухачевского и его «Планом поражения». Далее А. Мартиросян определил, что «ни о какой случайности невозможно говорить даже гипотетически». Устоять перед документальными фактами трудно. Виталий Смирнов делает вывод, «эта версия нуждается в дополнительных доказательствах…, что она не беспочвенна».
Иосиф Виссарионович обладал даром предвидения несомненно, как и умением гроссмейстерски выстроить линию в политических вопросах бытия, но при этом «был нетерпелив, как в хороших делах, так и плохих», — считает Виталий Смирнов. И далее развивает эту мысль так: «Родной брат самоуверенности – авантюризм. До своего пятидесятилетия, которое исполнилось в год начала мировой войны, Сталин был спокойнее и расчетливее». Но недостаток самовластья и бесконечного льстивого подслащивания ситуаций со стороны карманных друзей, вроде Мехлиса, сказались неожиданным образом в 1942 году. Он посчитал себя величайшим стратегом и со всей нетерпеливостью, присущей ему, подписал директиву штабам 7 января 1942 года о наступлении всем восьми фронтам от Балтийского до Черного моря. Против такого плана выступили только Жуков и Председатель Госплана СССР Вознесенский. Но Сталин настоял на своем.
Чуда не произошло и не могло произойти, потому что военная стратегия – это особый вид искусства, требующий помимо таланта, слаженной работы огромного войскового механизма, оснащенного техникой, современным оружием, обладающего устойчивой радиосвязью и прочим, прочим. А маршал Тимошенко и прочие политуправленцы, только поддакивали Сталину и рассчитывали на громкое «ура!» Красной Армии, у которой в сорок втором не хватало ни того, ни другого, а немецкие самолеты беззастенчиво топтались по головам, обескровливая Армию и Флот.
Немцы основательно закрепились на завоеванных позициях. У немцев помимо артиллерии и танков в каждом полку имелось автоматическое оружие и как минимум по два десятка безотказных и непревзойденных пулеметов МГ-42, которые при весе в 18 килограммов легко переносились с места на место и выкашивали жестоко красноармейские цепи. Поэтому когда началось наступление, то тысячи бойцов легли под Волховом, Брянском. 39-я Армия генерал-лейтенанта Ефремова оказалась в окружении под Вязьмой. Раненый командарм, чтобы не попасть в плен застрелился.
Только после этого Сталин согласился перейти к обороне. Таких стратегических промахов за время войны набралось много. Окружение под Киевом, Харьковом, в Крыму – всё это звенья одной цепи, приведшие войска к Дону и Закавказью. К Сталинграду.
О Сталинградской битве написано очень много, но Виталий Смирнов в книге «На переломе» нашел свою неповторимую интонацию, он сумел объединить документалистику с художественным переосмыслением действительности, тщательно отбирая события, может быть еще потому, что здесь всё родное и дом на улице Кумской, и родной дед, погибший при переправе через Волгу, отец, спасающий семью из горящего Сталинграда и его в том числе, шестилетнего мальчика, впитавшего навсегда горький запах беды и несчастья.
В этой книге есть главное, помимо дивизий, полков и сражений – живые люди. Очень разные. Победа в Сталинградском сражении ковалась не только в окопах, цехах и штабах, но и благодаря мужеству многих поэтов, журналистов, кинооператоров, которые привносили духовную составляющую в общее дело победы над врагом. Одно из произведений Михаила Шолохова, написанное в дни Сталинградского сражения в городе Николаевске называется «Наука побеждать». Страстные высокохудожественные очерки Константина Симонова в газете «Красная звезда» в сентябре 1942 года после встреч с бойцами на передовых позициях 64-й гвардейской дивизии в районе завода «Баррикады», заставляли по новому взглянуть на происходящее в Сталинграде, где главным было то, что никакие трудности не могут отнять у нас победу. Позже Симонов рассказывал, что без увиденного в Сталинграде и тех встреч с солдатами и командирами не получилось бы написать «Дни и ночи». Михаил Луконин, Николай Отрада, Николай Сухов, … Писатели не только призывали к патриотизму, говорили о долге, но и сами участвовали в битве за Сталинград. Одним из таких примеров является книга «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова.
Неоспоримое достижение автора книги «На переломе» Виталия Смирнова —послевоенные воспоминаний немецких офицеров, дипломатов, последовательно вплетенных в событийную ткань повествования. Не всегда лицеприятные для нас русскоязычных, но именно эти подлинные воспоминания, особенно Виганта Вюстера в осажденном Сталинграде, придают книге дополнительную объективность, подлинность. Счищают с событий навязчивые штампы. Позволяют лучше понять ужасающую глупость, бесперспективность любых военных конфликтов.
Сталинградская победа далась тяжело. По разработанному Генштабом во главе с Жуковым, Василевским плану «Зимняя гроза» завершили окружение 6-й Армии Паулюса в ноябре 1942 года. Но вместо спокойной войсковой работы по уничтожению группировки вымирающих и деморализованных немцев, Сталин принялся торопить с уничтожением фашистов в городе. «Верховный» не принимал никаких возражений Жукова и Василевского о том, что надо закрыть бреши, чтобы не допустить деблокирования окруженной группировки.
И только невероятная доблесть солдат у реки Мышкова и Аксай-Есауловский, да тактически грамотный шаг генерала Василия Тимофеевича Вольского, по мнению участника этих боев писателя Георгия Ключарева, не позволили армии Манштейна прорвать кольцо окружения. Об этих страшных боях на среднем Дону, как и недопустимых ошибках в ходе операции «Зимняя гроза» в официальной историографии упоминать не принято. А что такое очередной «стратегический просчет», позволивший танкам Манштейна подойти с юга к Сталинграду на расстояние пешего перехода? Это шесть суток беспрерывных боев без пищи и продыха. Это величайший подвиг – да! О чем поведал Юрий Бондарев в «Горячем снеге», бесконечно сожалея о тех, кто погиб на этом плацдарме у неприметной речки Мышкова и был по-своему талантлив, и мог бы много сделать полезного для себя, для страны, но выпал им очередной «стратегический просчет».
Это, отчасти, подтверждают слова академика, известного политолога Н. Н. Иноземцева, прошедшего войну в качестве артиллериста-разведчика: «Человек, сознательно идущий на верную смерть, должен быть или безразличным теленком с загнанными внутрь инстинктами, или иметь крепкий характер и железную силу воли. Последнее приобретается со временем и дорогой ценой. Но раз приобретенное — остается надолго, если не на всю жизнь».
В книге «На переломе» большой массив информации, сведений, фактов, документов, за которыми проглядывает огромный труд вдумчивого исследователя. Но важно и то, что ученый, публицист и писатель Виталий Борисович Смирнов сумел перебороть в себе, присущие каждому из нас, тенденциозные взгляды на те или иные события, постарался быть объективным, честным.
Александр Цуканов, председатель правления ВРОО «Союз писателей России»
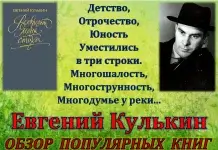



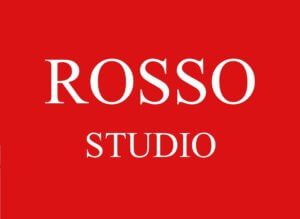 Создание сайта
Создание сайта