ОКУНЕВ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ
01.03.1919 — 4.04.1988
Израиль Абрамович Израилев в качестве творческого псевдонима взял имя пропавшего без вести в самом начале Великой Отечественной брата Юрия и материнскую фамилию. Так на свете появился нежный, лиричный поэт Юрий Окунев, астраханец по рождению, оставивший нам в наследство неповторимые по накалу чувств и форме выражения образцы фронтовой и любовной лирики.
Писать стихи он начал очень рано, а «выходить на публику» — ещё до того, как детское словотворчество превратилось в поэзию. Поэт был рождён 1 марта 1919 года в Астрахани в семье рабочего. Стихи он писал с восьми лет.
Мать — Фаина Зиновьевна Окунева — училась в Саратовской консерватории в классе вокала знаменитого певца и педагога М.Е. Медведева, первого исполнителя партии Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин». После окончания учёбы работала в Саратовском оперном театре, исполняла сольные партии (лирико-колоратурное сопрано).
Отец поэта, Израилев Абрам Исаевич (Израилевич), рабочий, токарь по металлу, работал в Саратове на заводе. В последние годы жизни (с 1929 г.) служил в государственных учреждениях Саратова. Умер от тифа в 1932-33гг.
(рукой поэта указаны две разные даты).
Известно, что после смерти Фаина Зиновьевна Окунева с сыновьями переехала из Саратова в Сталинград, где ей предложили работу – она стала солисткой симфонического оркестра при Сталинградском радиокомитете.
В 1934 г. будущий поэт окончил школу-семилетку и продолжил учёбу на рабфаке при Сталинградском педагогическом институте.
В 1936 году Юрий Окунев становится студентом литературного факультета Сталинградского пединститута. Одновременно с учебой работал в областной газете «Молодой ленинец» литературным сотрудником, а впоследствии — заведующим отделом литературы и искусства.
В 1938 г. поэт был принят по конкурсу на заочное отделение Литературного института в Москве (семинар Павла Григорьевича Антокольского), через год перевелся на очное отделение (семинар Ильи Львовича Сельвинского). Ещё год спустя девять месяцев молодой литератор работал в газете «Московский комсомолец» — заведовал литературной консультацией и сам печатался. Все студенты Литинститута работали в то время; занятия в институте проходили по вечерам.
22 июня 1941 г. Окунев ушёл добровольцем в армию. Печатался в армейской и фронтовой печати. В октябре 1945г. был демобилизован и с ноября победного года продолжил учёбу в Литинституте.
Всё лето 1946 года в разрушенном Сталинграде работал корреспондентом в выездной редакции «Комсомольской правды», писал стихи и стихотворные плакаты. В октябре 1947 году он получил диплом об окончании Литературного института имени М. Горького.
В 1948 — 1951 г. поэт работал редактором художественной литературы областного книжного издательства, с 1951 по 1954 год руководил литературным объединением при газете «Молодой ленинец», в 1955 г. принят в члены СП СССР, в 1956 г. учился в Москве на Высших литературных курсах. С 1948 г. и до самой смерти 4 апреля 1988 г. Юрий Окунев жил в Сталинграде-Волгограде.
Начав обучение в Литературном институте до начала Великой Отечественной войны, поэт окончил вуз уже во второй половине 1940-х. Первые публикации поэта относятся к 1936 году. К этому же году относится и издание краевой газеты «Дети Октября» — альманах «Стихи счастливых», в который вошли стихи юных поэтов. В нём были напечатаны стихи друзей Ю. Окунева: Коли Отрады (Николай Отрада погиб в марте 1940 г. на финской войне), Миши Луконина и Гриши Финна. С поэтом-фронтовиком Михаилом Кузьмичом Лукониным и Григорием Романовичем Финном (военврач на фронте, в дальнейшем – заведующий кафедрой микробиологии Волгоградского мединститута) Юрий Окунев дружил всю жизнь. В 1936 году также в газете «Сталинградская правда» было опубликовано стихотворение, посвящённое памяти Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного фашистами.
Член Союза писателей СССР, Юрий Окунев – автор поэтических сборников «Сталинградцы» (1948 г.), «На земле Сталинграда» (1952 г.), «Стихи» (1954 г.), «Стихи и поэмы» (1957 г.), «Лирика» (1962 г.), «Всегда сначала» (1963 г.), «Лирика прежде всего» (1968 г.), «Приверженность» (1972 г.), «Навсегда» (1984 г.) и многих других. После смерти поэта вышла в свет книга его стихов «Не лгите дневникам» (1989 г.). Публиковался в альманахе «Литературный Сталинград», в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Волга». Занимался поэтическими переводами.
Безусловно, война оставила свой след и в душе, и в поэзии Юрия Окунева. Её отголоски — и в поэме «Подвиг», и во множестве стихотворений, таких, как «На рассвете в Полтаве», «Базар у рейхстага», «Грюнау», «Магда Штегман», «Иоганна», «Ведь у победы запах есть…», «В сорок пятом мчались Польшей…» — всех стихов поэта о войне не перечислишь, тем более, что фронтовая муза всегда была к нему благосклонна.
Говорят, что у войны не женское лицо. Окунев же смотрел на войну сквозь женское лицо. Упоминание имени Джульетты в его фронтовой лирике не случайно. Органично для поэта и это стихотворение:
Бьёт московского салюта
Ввысь прибой.
Знать хочу я в ту минуту:
Что с тобой?
Женские глаза иные
В этот миг —
Это только позывные
Глаз твоих.
Сколько горя я изведал,
Сколько зла,
Чтоб смеяться в День Победы
Ты смогла.
Рыцарское отношение к женщине и придает своеобразие лирическому герою Окунева. Тематически поэт был многообразен. Тема любви, интимная лирика были душой его поэзии на протяжении всего творческого пути. Не случайно подобно заклинанию повторяет он в заглавиях своих книг — «Женщине посвящается», «Лирика прежде всего», «Власть лирики».
Вечной темой поэзии Окунева стал Сталинград. О ней он заявил в своей первой книге “Сталинградцы”, которая, по словам Михаила Луконина, ознаменовала рождение нового поэта.
Волгоградцы трепетно хранят память о поэте Юрии Окуневе. В 1996 году на доме, в котором он проживал по адресу улица Советская, четыре, была установлена мемориальная доска.
***
Я в безнадёжном списке состою.
При мысли о прощании немею;
Билет обратно в кассу я сдаю –
Я от тебя уехать не умею.
Моим признаньям верьте иль не верьте:
Не научился я в любовь играть.
В тебе есть всё для жизни и для смерти.
Я остаюсь, чтоб жить и умирать.
***
Проснулся. Понял – ничего не будет.
Не будет ничего и никогда.
Свой возраст постигающие люди,
Что это – сожаленье иль беда?
Я не ревнив, спокоен и безгрешен,
Так правилен, что оторопь берёт.
По радио, как будто бы в насмешку,
«Я встретил вас…» мне Штоколов поёт.
Примерным намертво мой быт устроен.
И как всё это ты не назови,
Пожалуй, идеальней мы героев
Любой бездарной пьесы о любви.
Вот так. Зато никто нас не осудит.
Вот здорово! И горе – не беда!..
Хоть плачь, хоть смейся – ничего не будет.
Не будет ничего и никогда.
***
Если любишь, покажутся мелкими
и хвала, и хула.
Тихо, мерно бьют переделкинские
колокола.
Только верящему, а не верующему
ты, как крест.
Я пойду к патриарху; что ж делать ещё?..
Ведь не съест.
Я пойду к патриарху Алексию
на поклон.
— Нет, в любви вам не будет весело, —
скажет он.
Даже Бог не прибавит силы нам,
зови, не зови…
никогда не дождёшься помилования
от любви.
Страхом душу не исковеркаю.
Была не была!
Отпевают меня переделкинские
колокола.

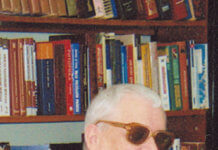

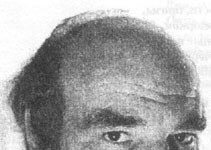






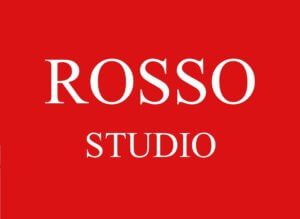 Создание сайта
Создание сайта